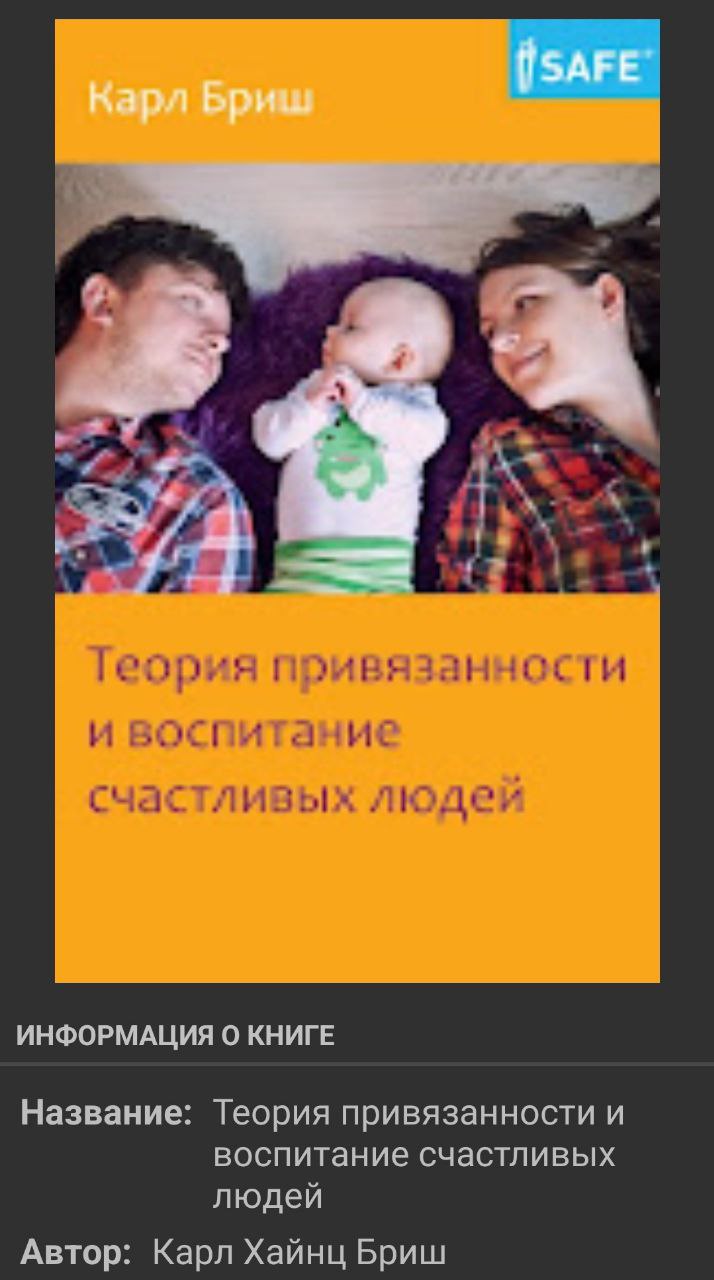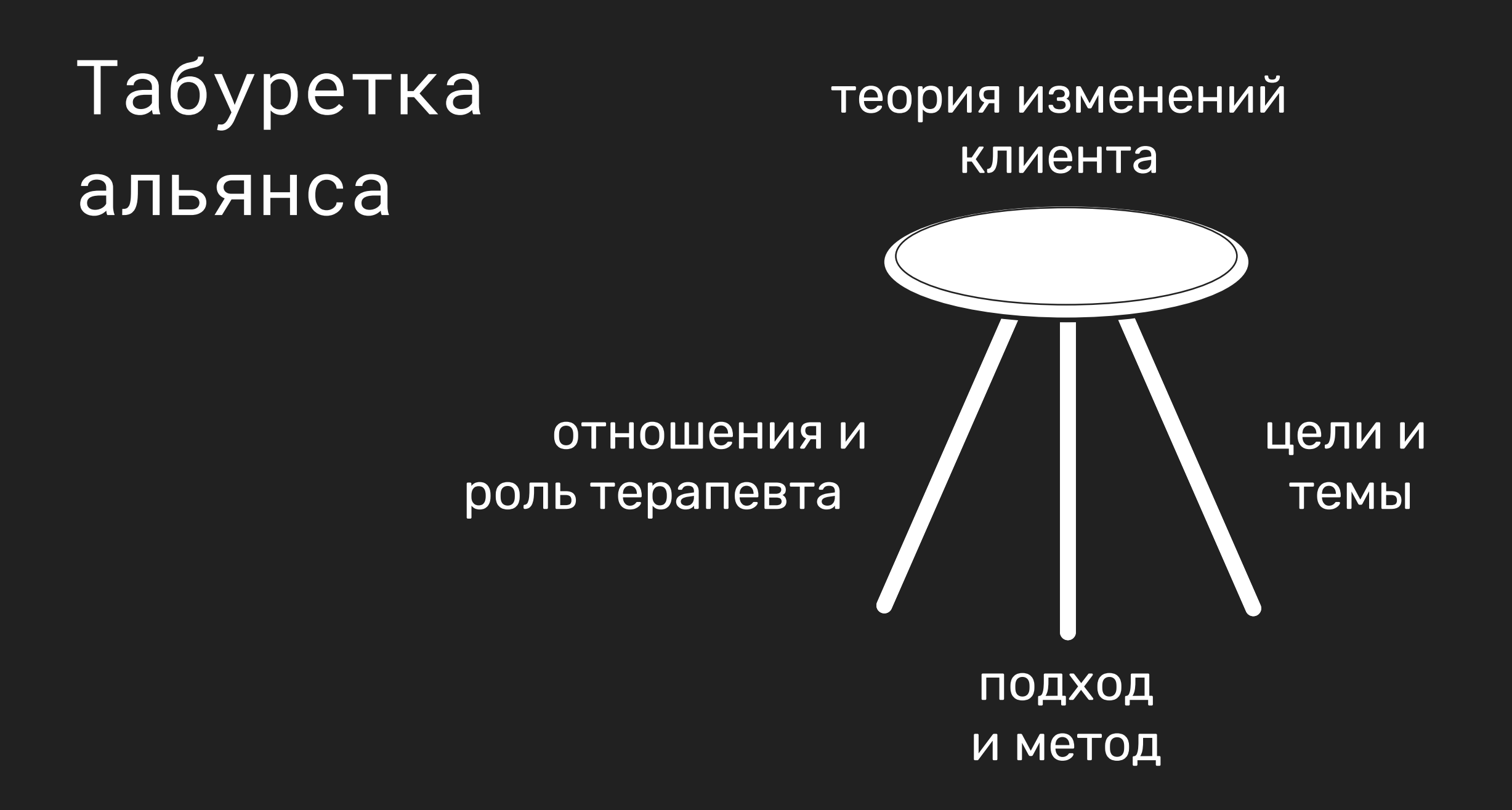Дорогие коллеги, мы с Ирой Варвариной продолжаем готовиться к авторскому курсу по написанию кейсов. И подумали, что было бы здорово составить словарик “маскирующих” слов из речи гештальт-терапевтов. Не задумываясь, мы их используем с клиентами, на супервизии, в личных беседах, но в письменной речи это особенно заметно.
Пожалуйста, в комментариях, напишите ваши (не)любимые пустые слова и шаблоны гештальтисткой речи.
Про мой топ-5 я записала видео,
но текстом тоже напишу.
1. “У меня к тебе тепло” и другие варианты использования телесных метафор вместо называния чувств и желаний. Потому что если у меня тепло к тебе в груди, это одна история, в руках – другая, а в гениталиях – вовсе третья.
2. “Я тебе сочувствую”. Сочувствую в чем? Откуда я об этом узнал? Может быть, я тебе и не сочувствую, а что-то свое переживаю или проецирую?
3. “Я поддерживал клиента”. В чём ? И как? Фрустрация – оборотная сторона поддержки: поддерживаю переживание, фрустрирую интеллектуализацию, например. Тогда почему сообщать именно о поддержке?
4. Путаница между разными психическими процессами. Чаще всего я встречаю путаницу между описанием восприятия и мышления, то есть внешней и средней зоной осознавания. Например, “Я вижу: тебе больно”. Но невозможно увидеть боль другого. Можно увидеть, как другой поморщился и на основании этого сделать предположение, что другому больно. Или, например, “я ощущаю, что мы стали ближе”. Но если речь не идёт о том, что мы сели физически ближе друг к другу, и я ощущаю на лице дыхание другого человека, то, скорее всего, это обозначение того, что я на основании каких-то наблюдений думаю, что наша субъективная дистанция сократилась.
5. Спорное. “Я поддерживал функцию id клиента”. Вот вроде человек уточнил, что именно поддерживал. Но всё ещё странно. Во-первых, а как же холизм? Во-вторых, насколько возможно поддержать функцию селф другого? Мне кажется, что в психотерапии мы поддерживаем осознавание той или иной функции селф.
Повторю просьбу. Пожалуйста, накидайте в комментариях других расхожих шаблонов из разговорной речи, которые приходят к нам в терапевтический язык, загрязняют его, заставляют нас делать дурацкие интервенции и странно (в плохом смысле того слова) осмыслять работу.